Обезъяна русской трагедии. Новый фильм Никиты Михалкова в историческом контексте
|
Культура: 17.10.2014 20:20 Просмотров: 7743 |
Изначально новый фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» был обречён на всякого рода колкости и троллинг. Это тот случай, когда мнение о картине было сформировано ещё до его выхода в прокат. Потому, что многим любопытна не столько она, сколько персона режиссёра, образ которого можно вычленить из трёхчасового действа. Так уж получилось, что сам Никита Михалков, как персонаж современности, многим интересней чем то, что он делает. Здесь личность автора отбрасывает большую тень на своё произведение и принципиальным образом влияет на его восприятие. Поэтому попытаюсь абстрагироваться от автора и сконцентрироваться на его художественном послании миру.

Для начала следует отметить одно характернейшее свойство – фильм получился крайне предсказуемый и совершенно без каких-либо неожиданностей. Как на уровне сюжета, персонажей, так и монологов, идей. Здесь всё очевидно. «Солнечный удар» – не попытка поиска, не дискуссионное пространство, а монолог, который разворачивается по чётко запрограммированному сценарию, в котором достаточно произнести «а», чтобы потом всё было понятно. Возможно, в этом плане не слишком отошли от истины те, кто составил мнение о фильме до его выхода. Только вот, повторюсь, мнение о нём должно формулироваться, не исходя из личности Михалкова, а тех идей, в данном случае исторической концепции, которые в нём развёртываются.
Фильм «Солнечный удар» – о той трагедии, которая произошла с Россией в начале XX века. Трагедия эта до сих пор, спустя почти сто лет, не изжита обществом и всё ещё кровоточит. Отсюда и основной вопрос, который озвучен в фильме Михалкова: «Как это всё случилось?»
И вот с этим вопросом Михалков попадает в довольно предсказуемую идеологическую ловушку, в которой, по сути, и пребывает наше общество. Вместо преодоления этой трагедии нам предлагается её идеологическое, исходя из требований настоящего момента, объяснение. Отсюда из истории в который раз делаются качели и вопросы остаются неразрешёнными. Мало того они ещё больше прогрессируют и грозят окончательно перейти в разряд злокачественных для общества.
Идиллия превращается в чёрно-белый ужас с кровавыми пятнами. С чего началось? С питерского интеллигента, приехавшего в провинциальный город и проповедующего ученикам об обезьяне? О теории происхождения видов Дарвина, ставящей под сомнение Бога? С мальчика, которого ошарашили эти откровения, и из которого в будущем вышел комиссар? С этого совращённого и сбитого с толку ребёнка, который осознал, что всё дозволено, и поэтому почти без эмоций отправил людей на смертельную баржу?
К сожалению, в нынешние времена все эти проклятые вопросы, которые озадачивали ещё Достоевского, превращены в спекулятивную идеологическую схему, которая на самом деле не объясняет трагедию, а попросту прикрывает её необходимой ширмой.
Проблема здесь не столько в обезьяне. Так ныне повелось, что этой обезьяной теперь оправдывают всё что угодно. Но в этом ли причина того, что брат пошёл на брата, что людей стали топить в баржах? Виновата ли в этом великая отечественная литература, что якобы подготавливала почву для обезьяны, расшатывала общество? А может быть и не было никакой обезьяны, и она – не более, чем солнечный удар? Одна иллюзия, как и идиллия России, которую мы потеряли, достаточно иллюзорна?
Или проблема всё-таки в самом пароходе «Летучий», который петляет по Волге? Летучий голландец… И вся будущая трагедия была запрограммирована в его замкнутом мирке с поручиком-фанфароном, сознание которого помутилось из-за полового инстинкта; прекрасной безымянной дамой-искусительницей; неумелым и придурковатым фокусником; матерью семейства, совершенно равнодушной к своему мужу и детям; тучным попом с лицом, не обезображенным интеллектом и другими? Этому «Летучему» рано или поздно предопределено стать баржей, затопленной с людьми. Вектор движения был очевидный: с парохода через гостиницу «Европа» и на баржу.
Предлагаемая же логика проста: обезьяна вытеснила Бога, а если Бога нет, то всё дозволено. Легко описывать безбожный мир с преступными и «сахалинскими» лицами людей. Но в том то и дело, что Бог есть, он ещё сохранён в сердце. Не зря комиссар Георгий Сергеевич спрашивает у Розалии Землячки о родственности коммунистической идеологии с христианством. Не зря он со слезами на глазах провожает баржу, и рука тянется осенить себя крестным знамением. Не зря. Люди находятся в поисках опоры, справедливости, которая бы противостояла расшатанному миру. Миру, аплодирующему глупым фокусам, в состоянии солнечного удара. Плодящему, по сути, пустых людей, фанфаронов, бегающих за парящим платком.
Разве мальчик Егорий, которому учитель рассказывал о дарвиновской теории, виноват? Разве этот мальчик, ставший комиссаром, стал причиной трагедии?
Образ Георгия вполне можно трактовать и с тех позиций, что он превращается в Харона, провожающего на смерть людей, уже давно умерших. До баржи. До сдачи в плен. Они – тени. Готовы предать, готовы задушить и полны безразличия ко всему. Баржа – ковчег, тонущий под грузом грехов. И комиссары здесь лишь исполнители этого возмездия. Георгий вовсе не предал Бога ради обезьяны. Он до поры наблюдатель, но при этом готов разить копьём змея, опутавшего общество.
Не обезьяна виновата. Не Дарвин. А пустота людская, безразличие, их прохладность. Тот же поручик не заходит в храм, чтобы освятить крестик, а делает это с чёрного хода, а потом мелочно возмущается корыстью священника, запросившего десять рублей. Отмахивается от вопросов Егория, который видит в нём последнюю инстанцию, которая в состоянии отвергнуть дарвиновскую обезьяну. Прохладный и безразличный поручик лишь отмахивается: каждый верит в то, что хочет. Это ещё вопрос – кто совратил ребёнка: учитель или главный герой, который под занавес своей жизни всё-таки спохватился и стал без конца вопрошать: «Как это всё случилось?»
Ответ на этот вопрос в фильме идеологизированно прост, в духе нашего времени. Интеллигенты внушили простым людям атеизм, помогли изгнать Бога, отсюда и разверзлась смута в стране, и появились комиссары, матросы с винтовками на броневике, несущие смерть. Надо понимать, что всё это не более, чем идеологема, не имеющая ничего общего с реальной историей.
Очевидно, что те самые большевики, которых сегодня в логике исторических качелей делают виновниками всех бед России, на самом деле едва ли таковыми являются. Их инфернальность сильно преувеличена. Всё это было очевидно уже тогда. Ведь, по сути, на историческую арену они вступили лишь в конце 17-го года. Здесь можно вспомнить отличное свидетельство о русской революции американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Там он отвечает на этот вопрос: «Рассматривая растущую популярность большевиков, необходимо понять, что развал русской экономической жизни и русской армии совершился не 7 ноября (25 октября) 1917 г., а много месяцев раньше, как неизбежное, логическое следствие процесса, начавшегося ещё в 1915 г. Продажные реакционеры, державшие в своих руках царский двор, сознательно вели дело к разгрому России, чтобы подготовить сепаратный мир с Германией». И ещё, что крайне важно у него: «Большевики, представляется мне, – это не разрушительная сила, а единственная в России партия, обладающая созидательной программой и достаточной властью, чтобы провести её в жизнь. Если бы им в тот момент не удалось удержать власть, то, по-моему, нет ни малейшего сомнения в том, что уже в декабре войска императорской Германии были бы в Петрограде и Москве, и Россия снова попала бы под иго какого-нибудь царя…»
Кстати, о схожем восприятии большевиков писал в своём дневнике «Окаянные дни» Иван Бунин, на который во многом ориентировался Михалков, работая над своей картиной. «Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии» – в силу своего личного отношения Бунин с этим не соглашается, но это его свидетельство крайне важно.
В самом начале своего дневника Бунин высказывается о Брюсове: «всё левеет, «почти уже форменный большевик». Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик».
Бунин показывает метание в брюсовских взглядах. Но ведь вся эта эволюция – совершенно естественная и последовательная. Монархист, патриот, большевик. Если вдуматься, это вещи одного порядка. Все они есть отражение принципа, который Брюсов сформулировал в том же «Кинжале: «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза».
Контуженность идеологизмами не позволяет нам здраво оценить ситуацию. Но ведь, если разобраться, то между большевиками и монархистами не так много и разницы. Самодержцы и большевики собирали государство. В какой-то мере большевики – восстановление имперского духа России, противостоящее распаду. Как бы там ни было, но именно они остановили процессы распада страны, вовсе не ими запущенные. В этом плане будет верным свидетельство Джона Рида, назвавшего большевиков созидательной силой.
Надо понимать, что борьба между распадом и собиранием – это центральный сюжет русской истории. И дело здесь не в белых и красных. Здесь не надо ставить акцент на том, кто виноват, а кто прав. В русской трагедии все виноваты и все правы. Это одновременно и трагедия, и величайшее событие в истории человечества.
Тот же Бунин в своём дневнике «Окаянные дни» вспоминает слова историка Ключевского о чрезвычайной повторяемости русской истории. Она не то, что повторяется – здесь происходит вечная брань между распадом и созиданием, рознью и целостностью. Именно с этих, а не идеологических позиций следует её оценивать. Тем более что и современная Россия мало чем обличается от общества парохода «Летучий». Поэтому самое главное не дать превратиться ему в смертельную баржу. Иначе, зачем мы с вами тогда? Это ещё один из главных вопросов михалковского фильма. Ответом на него может быть только вступление в эту битву против распада и хаоса, чтобы потом не пришлось констатировать, как внутри той самой баржи, что ничего нет, и всё это мы сами сделали. Сами! Не Дарвин, не обезьяна, не революционеры, не большевики, а сами. Тем, что ещё до разверзшейся пустыни сами стали унылой тенью, замкнутой в своём мирке искусственных идеологем.
Андрей РУДАЛЁВ

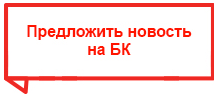

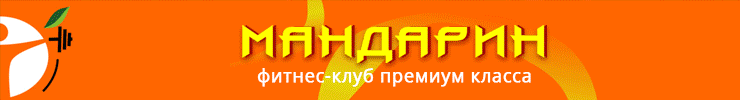




Комментарии
RSS лента комментариев этой записи